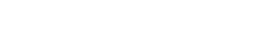Белла Ахмадулина - Приключение в антикварном магазине
Зачем? — да так, как входят в глушь осин,
для тишины и праздности гулянья, —
не ведая корысти и желанья,
вошла я в антикварный магазин.
Недобро глянул старый антиквар.
Когда б он не устал за два столетья
лелеять нежной ветхости соцветья,
он вовсе б мне дверей не открывал.
Он опасался грубого вреда
для слабых чаш и хрусталя больного.
Живая подлость возраста иного
была ему враждебна и чужда.
Избрав меня меж прочими людьми,
он кротко приготовился к подвоху,
и ненависть, мешающая вздоху,
возникла в нем с мгновенностью любви.
Меж тем искала выгоды толпа,
и чужеземец, мудростью холодной,
вникал в значенье люстры старомодной
и в руки брал бессвязный хор стекла.
Недосчитавшись голоска одной,
в былых балах утраченной подвески,
на грех ее обидевшись по-детски,
он заскучал и захотел домой.
Печальную пылинку серебра
влекла старуха из глубин юдоли,
и тяжела была ее ладони
вся невесомость быта и добра.
Какая грусть — средь сумрачных теплиц
разглядывать осеннее предсмертье
чужих вещей, воспитанных при свете
огней угасших и минувших лиц.
И вот тогда, в открывшейся тиши,
раздался оклик запаха и цвета:
ко мне взывал и ожидал ответа
невнятный жест неведомой души.
Знакомой боли маленький горнист
трубил, словно в канун стихосложенья, —
так требует предмет изображенья,
и ты бежишь, как верный пес на свист.
Я знаю эти голоса ничьи.
О плач всего, что хочет быть воспето!
Навзрыд звучит немая просьба эта,
как крик: — Спасите! — грянувший в ночи.
Отчаявшись, до крайности дойдя,
немое горло просьбу излучало.
Я ринулась на зов, и для начала
сказала я: — Не плачь, мое дитя.
— Что вам угодно? — молвил антиквар. —
Здесь все мертво и не способно к плачу. —
Он, все еще надеясь на удачу,
плечом меня теснил и оттирал.
Сведенные враждой, плечом к плечу
стояли мы. Я отвечала сухо:
— Мне, ставшею открытой раной слуха,
угодно слышать все, что я хочу.
- Ступайте прочь! — он гневно повторял.
И вдруг, средь слабоумия сомнений,
в уме моем сверкнул случайно гений
и выпалил: — Подайте тот футляр!
— Тот ларь? — Футляр. — Фонарь? — Футляр! — Фуляр?
— Помилуйте, футляр из черной кожи. —
Он бледен стал и закричал: — О боже!
Все, что хотите, но не тот футляр.
Я вас прошу, я заклинаю вас!
Вы молоды, вы пахнете бензином!
Ступайте к современным магазинам,
где так велик ассортимент пластмасс.
— Как это мило с вашей стороны, —
сказала я, — я не люблю пластмассы.
Он мне польстил: — Вы правы и прекрасны.
Вы любите непрочность старины.
Я сам служу ее календарю.
Вот медальон, и в нем портрет ребенка.
Минувший век. Изящная работа.
И все это я вам теперь дарю.
...Печальный ангел с личиком больным.
Надземный взор. Прилежный лоб и локон.
Гроза в июне. Воспаленье в легком.
И тьма небес, закрывшихся за ним...
— Мне горестей своих не занимать,
а вы хотите мне вручить причину
оплакивать всю жизнь его кончину
и в горе обезумевшую мать?
— Тогда сервиз на двадцать шесть персон! —
воскликнул он, надеждой озаренный. —
В нем сто предметов ценности огромной.
Берите даром — и вопрос решен.
— Какая щедрость и какой сюрприз!
Но двадцать пять моих гостей возможных
всегда в гостях, в бегах неосторожных.
Со мной одной соскучится сервиз.
Как сто предметов я могу развлечь?
Помилуй бог, мне не по силам это.
Нет, я ценю единственность предмета,
вы знаете, о чем веду я речь.
— Как я устал! — промолвил антиквар. —
Мне двести лет. Моя душа истлела.
Берите все! Мне все осточертело!
Пусть все мое теперь уходит к вам.
И он открыл футляр. И на крыльцо
из мглы сеней, на волю из темницы
явился свет, и опалил ресницы,
и это было женское лицо.
Не по чертам его — по черноте, —
ожегшей ум, по духоте пространства
я вычислила, сколь оно прекрасно,
еще до зренья, в первой слепоте.
Губ полусмехом, полумраком глаз
лицо ее внушало мысль простую:
утратить разум, кануть в тьму пустую,
просить руки, проситься на Кавказ.
Там — соблазнить ленивого стрелка
сверкающей открытостью затылка,
раз навсегда — и все. Стрельба затихла,
и в небе то ли бог, то ль облака.
— Я молод был сто тридцать лет назад. —
проговорился антиквар печальный. —
Сквозь зелень лиц, по желтизне песчаной
я каждый день ходил в тот дом и сад.
О, я любил ее не первый год,
целуя воздух и каменья сада,
когда проездом — в ад или из ада —
вдруг объявился тот незваный гость.
Вы Ганнибала помните? Мастак
он был в делах, достиг чинов немалых,
но я о том, что правнук Ганнибалов
случайно оказался в тех местах.
Туземным мраком горячо дыша,
он прыгнул в дверь. Все вмиг переместилось.
Прислуга, как в грозу, перекрестилась.
И обмерла тогда моя душа.
Чужой сквозняк ударил по стеклу.
Шкаф отвечал разбитою посудой.
Повеяло паленым и простудой.
Свеча погасла. Гость присел к столу.
Когда же вновь затеяли огонь,
склонившись к ней, перемешавшись разом,
он всем опасным африканским рабством
потупился, как укрощенный конь.
Я ей шепнул: — Позвольте, он урод.
Хоть ростом скромен, и на том спасибо.
— Вы думаете? — так она спросила. —
Мне кажется, совсем наоборот.
Три дня гостил, весь кротость, доброта,
любой совет считал себе приказом.
А уезжая, вольно пыхнул глазом
и засмеялся красным пеклом рта.
С тех пор явился горестный намек
в лице ее, в его простом порядке.
Над непосильным подвигом разгадки
трудился лоб, а разгадать не мог.
Когда из сна, из глубины тепла
всплывала в ней незрячая улыбка,
она пугалась, будто бы ошибка
лицом ее допущена была.
Но нет, я не уехал на Кавказ,
Я сватался. Она мне отказала.
Не изменив намерений нимало,
я сватался второй и третий раз.
В столетье том, в тридцать седьмом году,
по-моему, зимою, да, зимою,
она скончалась, не послав за мною,
без видимой причины и в бреду.
Бессмертным став от горя и любви,
я ведаю этим ничтожным храмом,
толкую с хамом и торгую хламом,
затерянный меж богом и людьми.
Но я утешен мнением молвы,
что все-таки убит он на дуэли.
— Он не убит, а вы мне надоели, —
сказала я, — хоть не виновны вы.
Простите мне желание руки
владеть и взять. Поделим то и это.
Мне — суть предмета, вам — краса портрета:
в награду, в месть, в угоду, вопреки.
Старик спросил: — Я вас не вверг в печаль
признаньем в этих бедах небывалых?
— Нет, вспомнился мне правнук Ганнибалов, —
сказала я, — мне лишь его и жаль.
А если вдруг, вкусивший всех наук,
читатель мой заметит справедливо:
— Все это ложь, изложенная длинно. —
Отвечу я: — Конечно, ложь, мой друг.
Весьма бы усложнился трезвый быт,
когда б так поступали антиквары,
и жили вещи, как живые твари,
а тот, другой, был бы и впрямь убит.
Но нет, портрет живет в моем дому!
И звон стекла! И лепет туфель бальных!
И мрак свечей! И правнук Ганнибалов
к сему причастен — судя по всему.
1964